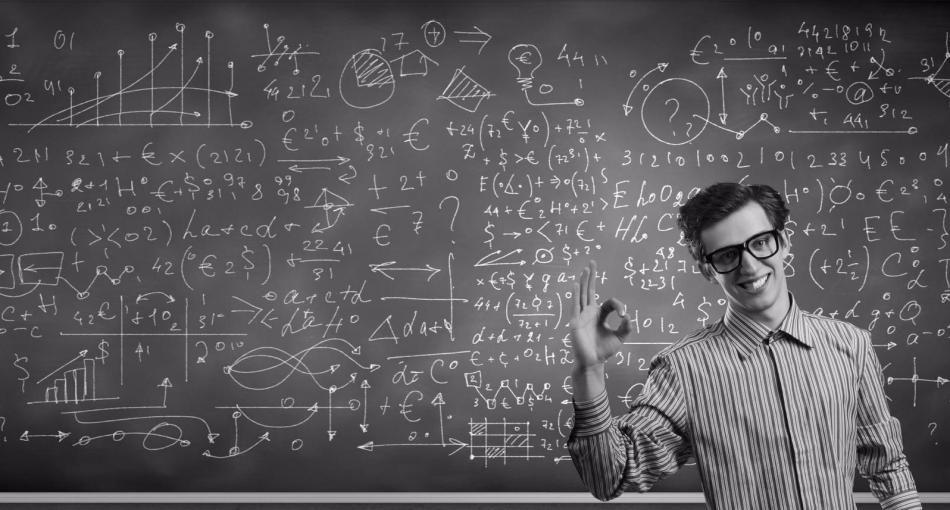
В истории физики имена Ландау и Лифшица связаны необыкновенно крепко. В пределах школьных знаний можно сказать, что они связаны гораздо крепче имен Бойля и Мариотта, а если и уступают Гей-Люссаку, то лишь потому, что это — двойное имя одного человека.
17-летний Женя Лифшиц познакомился с 24-летним Львом Ландау в 1932 году и не расставался с ним до конца своих дней в 1985 году. Ландау расстался с ним и с главным делом своей жизни — физикой — в январе 1962 года, когда удар грузовика на обледенелой дороге оборвал его жизнь в науке, оставив ему лишь шесть лет мучений и бессмысленного существования.
Итак, тридцать лет совместной жизни в физике и «двадцать лет спустя», посвященные заботе о научном наследии Ландау, прежде всего о знаменитом «Курсе теоретической физики» Ландау и Лифшица. Тома курса переиздавались не раз на многих языках и обучили несколько поколений физиков мастерству профессии. Непочтительные студенты называли иногда этот курс кратко «Ландафшиц» и передавали из уст в уста, не очень веря, что в книгах курса нет ни одного слова, написанного рукой Ландау, и что даже его научные статьи, подписанные одним его именем, тоже написаны не его рукой. Как это могло быть и что это значит — оставалось только гадать.
Лучше других это знал и понимал главный соавтор Ландау и его ближайший сотрудник — Евгений Михайлович Лифшиц, но впервые он об этом рассказал лишь в 1984 году, незадолго до своей преждевременной смерти (в ходе операции на сердце). Рассказал в лекции, прочитанной в Японии на английском языке. Сохранилась магнитофонная запись этой лекции, фрагменты из нее следуют за данным предисловием.
В рассказе Е.М. Лифшица о своем учителе ясно ощущаются любовь, восхищение и преданность. Легко забыть, что слушаешь пожилого академика, занимающего видное положение в науке (он руководил главным физическим журналом страны — Журналом экспериментальной и теоретической физики). И возникает представление, что чувства к учителю, возникшие у юного ученика, безмятежно сохранились на всю жизнь, надолго пережив учителя.
Сохранились — да, но безмятежно ли?… Что вообще в России безмятежно? Особенно вблизи столь необычного человека, как Ландау. Евгений Михайлович Лифшиц просто любил своего учителя со всеми его необычностями. Труднее тем, кто смотрит на взаимоотношения этих людей со стороны и хочет понять природу их прочного союза.
Познакомились они в 1932 году в Харькове, куда Ландау переехал из Ленинграда. Тогдашняя столица Украины была мало заметным селением на карте физики, но Ландау собирался делать там первоклассную физику для мировой науки и первоклассных физиков для советской страны. Обе задачи у него хорошо пошли — кроме молодости и амбиций молодой физик-теоретик имел уже работы мирового класса, признание и уверенность в своих силах.
Евгений Лифшиц — из первого выпуска школы Ландау. Вступительный экзамен в школу был нелегкий, но наука, по мнению «директора школы», требует полной самоотдачи. Высшее образование Лифшиц получил всего за два года, еще быстрее окончил аспирантуру и защитил диссертацию. В девятнадцать лет он публикует первую совместную с Ландау статью, а еще через год — статью о магнетизме, вошедшую в историю науки. Тогда же, в 1935 году, началась работа над «Курсом теоретической физики».
Ландау был необычным человеком с необычной биографией — и в физике, и за ее пределами. Говорить о его необычном даре физика лучше всего с теми, кто сам хоть раз испытал просветление мозгов под действием его самого или его книг. Но про Ландау не скажешь, что он — физик и только этим интересен. Иначе он вряд ли бы занял столь видное место в общественном сознании — к примеру, первое место в голосовании «Российские ученые», которым радио «Эхо Москвы» подводило итоги двадцатого столетия.
О необычности Ландау вне физики говорить легче, но чтобы ее понять, пригодится одно его суждение, касающееся самой физики.
В триумфах своей науки Ландау видел проявление мощи человеческого разума вообще. Искривленное пространство-время и волновое поведение частиц человек не может представить себе наглядно — слишком далеки оба явления от ощущений обыденной жизни, привычных с детства. И, тем не менее, физики сумели соединить эти ненаглядные понятия с миром наблюдений и постигли законы этого ненаглядного мира наблюдений. Человек оказался способным «открыть и осознать даже то, что ему не под силу представить».
Эту способность разума Ландау проявлял и в своей физике, но она также необходима, чтобы охватить контрасты его биографии вне физики. Вот некоторые из этих контрастов.
В начале тридцатых годов Ландау был настроен необычайно просоветски, а в начале пятидесятых — еще более необычайно антисоветски. И то и другое подтверждено документами. В его интервью 1931 года датской газете и в его статье 1935 года «Буржуазия и современная физика» в «Известиях» можно прочитать, что: «В Советской России нет эксплуатации большинства меньшинством, каждый работает для благосостояния всей страны, и нет никакой враждебности между рабочими и управляющими, они солидарны». «Партия и правительство предоставляют небывалые возможности для развития физики в нашей стране. Только государственное управление наукой в состоянии обеспечить подбор действительно талантливых людей и не допускать засорения научных учреждений различными непригодными для научной работы «зубрами» от науки».
А в 1957 году хроникеры-документалисты от КГБ зафиксировали совсем другие слова Ландау о советском режиме: «Наша система, как я ее знаю с 1937 года, совершенно определенно есть фашистская система, и она такой осталась и измениться так просто не может. Пока эта система существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, даже смешно».
Столь сильное изменение взглядов Ландау произошло под влиянием событий «1937 года», которые когда-то назывались ежовщиной, а потом — Великим террором. Ландау, арестованный в апреле 1938 года, провел год в тюрьме, но политически прозрел еще накануне. В отличие от миллионов других жертв сталинского террора для ареста Ландау были юридические основания. Его диагноз политической ситуации зафиксирован в тексте невероятно смелой листовки, составленном накануне ареста. Там, в частности, было написано, что «сталинская клика совершила фашистский переворот».
Другой вопиющий контраст биографии Ландау проявился в воспоминаниях его вдовы Коры (Конкордии Терентьевны Дробанцевой, 1908-1984), написанных при брежневском развитом социализме и опубликованных недавно. Очевидно (хотя и невероятно), жена не имела понятия о радикальном изменении политических взглядов мужа. Ей была доступна лишь малая часть его личности, и когда автокатастрофа разрушила его научный дар, она даже не поняла масштаб разрушения.
Воспоминания жены пропитаны крайней неприязнью к одному человеку — Е.М. Лифшицу. Можно тут предположить и что-то вроде ревности, ведь Ландау проводил со своим ближайшим сотрудником, вероятно, больше времени, чем с ней. Но была у ее неприязни и более уважительная — по советским понятиям — причина. Вспомнив, как она в 30-е годы хотела, чтобы Ландау вступил в партию, она добавила: «В те далекие молодые комсомольские годы у меня было твердое убеждение: вне партии, вне комсомола должны оставаться только мелкие людишки вроде Женьки Лифшица, чуждые нашей советской идеологии».
Что да, то да — Е.М. Лифшицу советская идеология была чужда с юности. Причины этого неясны — в ближайшем окружении Ландау 30-х годов он один был такой, но следствия весьма значительны. Понятно, что, держа при себе свои несоветские взгляды, он в общении с малознакомыми или образцово-советскими людьми был застегнут на все пуговицы. Можно представить себе, как нелегко ему было переносить просоветский пыл своего обожаемого учителя в первые годы их знакомства. И насколько легче стало после того, как Ландау сделал свое политическое открытие в 1937 году. Об их антисоветском единомыслии знали — кроме стражей госбезопасности — только самые близкие люди. Его приемный сын Б.С. Горобец помнит, как во время Берлинского кризиса 1961 года Евгений Михайлович за обеденным столом сказал: «Мы с Дау считаем, что Запад должен стоять абсолютно твердо. Никаких уступок!».
Надо, конечно, помнить, что не политика была главным содержанием жизни Ландау и Лифшица, а физика. А для плодотворного общения физиков полное политическое единомыслие вовсе не обязательно.
Виталий Лазаревич Гинзбург, считающий Ландау одним из своих учителей и сделавший вместе с ним одну из самых плодотворных своих работ, только из публикаций послесоветского времени узнал об истинных политических взглядах Ландау. И прокомментировал это таким образом: «Сейчас мне ясно, что Ландау сознательно не говорил со мной на такие темы. И правильно делал. Слишком многое я тогда не понимал».
Другое дело — физика, где академик Гинзбург многое видел и понимал по долгу службы: «Несомненно, исследования, выполненные Е.М. Лифшицем, поставили его в ряд выдающихся физиков-теоретиков. Но в наши дни выдающихся теоретиков в мире все же немало, а вот Курс теоретической физики Ландау и Лифшица только один. Поэтому хотя я и высоко ценю научные результаты Лифшица, думаю, что главным в его деятельности является Курс. Ландау нашел в Лифшице не только достойного ученика и ближайшего друга, но и, я бы сказал, писателя. Обычно этот термин не применяется к авторам научных книг, но факт, что писать научные книги, даже когда их содержание известно, очень трудно. Сам Ландау, физик исключительного калибра, один из корифеев теоретической физики, писать не мог или, во всяком случае, так не любил, что почти никогда не писал даже собственные статьи, не говоря о книгах.
Напротив, Лифшиц умел писать четко и выразительно. Все 5300 страниц Курса написаны рукой Лифшица, и его роль в формировании текста никогда не вызывала сомнений. Что же касается содержания, то в блеске Ландау место, занимаемое Лифшицем, оставалось в тени. Признаюсь, что я и сам недооценивал роль Лифшица. Будучи рецензентом одного из томов Курса, я имел, помню, разговор с авторами, в котором сообщил свои замечания, и мы их обсуждали. Ландау доминировал в этом разговоре, а мы оба (Лифшиц и я) выступали в роли учеников, отнюдь не бессловесных или безропотных, но все же предоставлявших Учителю сказать решающее слово. Помимо того факта, что Ландау был, бесспорно, выше нас по своему классу, здесь, однако, сказывалась и его манера вести полемику. Ландау ведь принадлежал к числу людей, способных победить в споре, даже когда был не прав (конечно, только в случае, когда он искренне заблуждался, — я не знаю примеров, чтобы он отстаивал научное утверждение, в истинности которого в момент спора не был уверен)».
Чтобы не смотреть на Ландау исключительно глазами его учеников и в то же время чтобы лучше их понять, послушаем человека, который по возрасту годился Ландау в учителя. 52-летний Пауль Эренфест, выдающийся физик-теоретик и друг Эйнштейна, в 1932 году приехал в Харьков, где и познакомился с 24-летним Ландау. О своих впечатлениях он написал в Ленинград своему другу А.Ф. Иоффе (негодовавшему на абсолютно непочтительного Ландау):
«Что касается Ландау, то в последнее время я стал ценить его, как совершенно необычайно одаренную голову. В первую очередь, за ясность и критическую остроту его мышления. Мне доставляло большое удовольствие спорить с ним о разных вещах. И совер-шенно независимо от того, был ли я при этом неправ (в большинстве случаев — в основных вопросах) или прав (обычно во второстепенных деталях), я каждый раз очень многое узнавал и мог при этом оценивать, насколько ясно он «видит» и насколько большим запасом ясно продуманных знаний он располагает. Во всяком случае, я не придаю большого значения некоторым его сильно мешающим дурным привычкам».
То, что Эренфест назвал «дурными привычками», можно называть и по-другому. Особенности характера Ландау, намеченные здесь только штрихами, побуждают увидеть в нем личность подростка, пусть и наделенного необычно мощным и ясным интеллектом.
В каждом творческом человеке есть нечто от ребенка — иначе трудно сосредоточиться на предмете творчества и, значит, отвлечься от окружающей взрослой жизни. Подобную сосредоточенность легко обнаружить в песочнице, где самозабвенно занимаются своим делом исследователи в возрасте от 2 до 5. Их куличики и песочные замки столь же несерьезны — и столь же серьезны, — как и испещренные формулами черновики физика-теоретика. Почему у некоторых исследовательский инстинкт с возрастом не угасает — вопрос другой, но без этого инстинкта невозможно двигать науку.
Подросток, сохраняя некоторые черты ребенка, приобретает свойства, из-за которых не зря говорят о «трудном возрасте», когда стремление к простой и ясной картине мира сталкивается со сложным — и порой туманным — устройством взрослой жизни. Это столкновение чревато особенностями характера, которые различимы в манерах Ландау и даже в его научном стиле. Но подростка, даже и колючего, тоже можно любить, особенно если он честен перед собой и людьми и очень талантлив. Великий Нильс Бор любил Ландау и тот отвечал взаимностью и одного только Бора считал своим учителем.
Но подростка можно любить и без взаимности.
В.Л. Гинзбург, близко и долго наблюдавший Ландау, пишет: «Если бы меня спросили, то к друзьям Ландау я с уверенностью отнес бы только Е.М. Лифшица. Раза два (когда Ландау был болен) я видел со стороны Е.М. проявление к нему тех очень теплых чувств, которые характеризуют истинную дружбу. Со стороны Ландау я таких проявлений не видел по отношению к кому бы то ни было. Конечно, это ничего не доказывает, такое часто проявляется лишь в чрезвычайных обстоятельствах, а многие не любят демонстрировать свои теплые чувства. Но почему-то думаю, хотя в этом не уверен, что Ландау вообще подобных чувств обычно не питал».
Близким Е.М. Лифшица тоже казалось, что Ландау — при всем их каждодневном общении — не отвечает ему взаимностью. Особое недоумение вызывало то, что Ландау не пытался способствовать избранию своего друга в Академию наук или даже, как говорили, высказывался против этого (избрали его уже после автокатастрофы). Однажды жена Е.М. Лифшица, Зинаида Ивановна Горобец, спросила его, так ли это на самом деле. Евгений Михайлович — обычно сдержанный и всегда бережно относящийся к жене — ответил жестко: «Мне выпало огромное счастье — быть рядом с Ландау и работать вместе с ним! Все остальное не имеет никакого значения!».
А теперь послушаем, как Е.М. Лифшиц рассказывал о своем учителе.
Ландау -ученый, учитель, человек.
Из лекции Е.М. Лифшица
в Японии в 1984 году
Начну с того, что Льва Давидовича Ландау никто не называл «Лев Давидович». И никто не называл его «Ландау». Практически все коллеги и друзья звали его «Дау». Для тех, кто знает французский язык, и даже для тех, кто не знает его, расскажу, как сам Ландау объяснял происхождение своего прозвища. Оно происходит из написания его фамилии в виде Landau = L'ane Dau, что в переводе с французского означает «Осел Дау». Отсюда ясно, по меньшей мере, что Дау был веселым человеком.
Он родился в 1908 году в центре нефтяной промышленности — Баку, его отец был инженером-нефтяником, а мать — врачом. Способности его проявились очень рано — в 14 лет он поступил в университет. Он шутил, что не может припомнить возраста, когда не мог квантовать и интегрировать. В 19 лет он окончил Ленинградский университет и занимался столь интенсивно, что формулы ему даже снились по ночам.
Я много раз слышал от Дау рассказ о том, как его взволновали первые работы Шредингера и Гейзенберга, провозгласившие новый век — век квантовой механики. Другой очень важный момент в биографии Дау — поездка в Копенгаген, в Институт теоретической физики Нильса Бора. Там он провел полтора года и с тех пор считал себя учеником Бора.
Говоря о квантовой механике с ее принципом неопределенности и о кривизне пространства-времени в общей теории относительности, Дау обычно подчеркивал, что величайшее достижение человеческого гения заключается в том, что человек может понять то, что он уже не в состоянии представить себе. Все, что рассматривала физика ХIХ столетия, было вполне представимым. Это касается и многого в современной физике. Но когда речь идет о принципе неопределенности или кривизне пространства-времени, то такие вещи понять можно, а представить нельзя. Кстати, и предложенная им формулировка принципов сверхпроводимости или сверхтекучести, согласно которой жидкость может одновременно совершать не связанные друг с другом движения, также является чем-то таким, что можно понять, но нельзя представить.
В юности Дау был очень застенчив, ему было трудно общаться с другими людьми, особенно с красивыми девушками. Тогда это было для него одной из самых трудных проблем. По его словам, временами — в состоянии крайнего отчаяния — он даже думал о самоубийстве.
Вместе с тем он отличался сильной самодисциплиной и чувством ответственности перед собой. Это помогло ему стать человеком, полностью владевшим собой в любых обстоятельствах, и к тому же веселым человеком.
Фотографии запечатлели Ландау за работой — полулежащим на диване. У него и не было письменного стола. В институте у Ландау не было кабинета. Сотрудники теоретического отдела занимали несколько комнат, а для него специальной комнаты не было. Было, правда, любимое кресло. Вот на фотографии, он сидит в кресле, улыбаясь. Я почти не могу представить его не улыбающимся во время работы.
Трудно рассказать обо всем, что сделал Ландау в науке. Нет ни одного раздела теоретической физики, в который бы он не внес крупный вклад. В наш век специализации и его ученики разошлись по разным направлениям. Ландау объединял всех своим невероятным интересом ко всему, что рождалось в физике. Он мог обсуждать по существу любую физическую проблему.
В собрании трудов Ландау около ста статей — по современным понятиям не слишком много, но Ландау очень тщательно отбирал то, что, по его мнению, следовало публиковать. По выражению американского физика Мермина, «Собрание трудов Ландау возбуждает чувства, подобные тем, которые вызывает полное собрание пьес Вильяма Шекспира или Кехелевский каталог сочинений Моцарта. Безмерность совершенного одним человеком кажется невероятной».
Исключительно критический ум Ландау делал обсуждение с ним любой проблемы очень интересным. Разговаривать с ним было непросто, так как он всегда стремился вникнуть в суть дела, все понять и высказать свое мнение. Он ничего не говорил просто из вежливости. Переубедить его было трудно, но если это удавалось, то затем он первый признавал результат и его пропагандировал.
С Ландау я встретился в 1932 году и могу уверенно сказать, что — во всяком случае, начиная с тех лет, — сам он не прочитал ни одной научной статьи. Знания он черпал из обсуждений с другими и из семинаров, к которым относился очень серьезно. Там рассказывали и о собственных работах, и о статьях других.
Статьи для семинара Ландау подбирал сам, просматривая журналы. И если он просил своих учеников сделать обзор какой-то статьи, считалось святым долгом удовлетворить подобную просьбу. Сделать это было не легко, потому что Ландау хотел знать все до конца. Статья, недостаточно обоснованная, объявлялась «патологией», то есть чем-то ошибочным, или, что хуже, «филологией», то есть пустой болтовней. «Патологию» он не так ненавидел, как «филологию». Каждый может ошибиться, но переливать из пустого в порожнее?! — такого Ландау терпеть не мог. Статья, признанная на семинаре «интересной», помещалась в особый — «золотой» — список, и Ландау запоминал ее навсегда.
Ему было труднее проследить за ходом вычислений автора, чем проделать их самому. Как правило, Дау проверял результат гораздо более простым и прямым путем. Он гордился своим умением превращать сложные вещи в простые.
Ландау, однако, почти ничего не мог написать сам, от писем и до научных работ. Несколько статей, которые он попытался написать самостоятельно, понять было невозможно. Парадоксальная причина, насколько я могу судить, заключалась в его стремлении излагать мысли четко и лаконично. Он думал над каждым предложением, и это превращалось для него в мучение.
Поэтому, начиная с середины тридцатых годов, все его статьи с соавторами принадлежат перу его соавторов. Разумеется, это не означает, что Ландау полностью полагался на то, что они напишут. Сначала он давал точные указания, затем читал статью, если необходимо, вносил изменения сам или говорил, что надо изменить. А те статьи, которые он публиковал без соавторов, писал я. И в этом случае я имел от него точные указания. Сначала он объяснял мне свою работу, я писал ее, и затем, если нужно, вносились изменения.
Ландау был не только великим ученым, но также великим учителем — учителем по призванию. Это редкое сочетание. Эйнштейн, например, был, возможно, вообще величайшим ученым, когда-либо жившим на Земле, но у него не было прямых учеников, которые сотрудничали бы с ним непосредственно. Дау можно сопоставить с его собственным учителем — Нильсом Бором, который тоже был не только гениальным ученым, но и непревзойденным учителем.
О преподавании физики Ландау начал думать, когда ему было немногим более двадцати. Он мечтал написать учебники по физике на всех уровнях, начиная со школьного. К 1933 году он разработал «программу теоретического минимума», включавшую то, что, по его мнению, должен знать каждый физик-теоретик. Экзамены были совершенно неформальными. Отметки не выставлялись. Результат либо положительный, либо отрицательный, без промежуточных оценок. После того как человек сдавал теорминимум, Ландау уже считал его одним из своих учеников и старался подыскать ему хорошую работу. В 1961 году, за несколько недель до трагической катастрофы, Ландау составил список сдавших теорминимум. Из 43 человек в списке 14 стали академиками.
Дау был резким человеком, всегда говорил то, что думал. Но, по существу, был демократичным и в повседневной жизни, и в науке. Он был доступен и студентам, и коллегам — всем, кто к нему обращался.
Вот что он ответил студентам, которые спросили его мнения о том, какие разделы теоретической физики наиболее важны: «Должен сказать, что я считаю такую постановку вопроса нелепой. Надо обладать довольно анекдотической нескромностью для того, чтобы считать достойными для себя только «самые важные» вопросы науки. По-моему, всякий физик должен заниматься тем, что его больше всего интересует, а не исходить в своей научной работе из соображений тщеславия».
Ландау интересовался не только наукой. Очень любил историю всех времен и прекрасно знал ее. Любил литературу и живопись. Не любил — точнее, не мог заставить себя полюбить — музыку, хотя и очень старался. Помню, мы слушали Бетховена, после чего Ландау сказал, что раз ему оказался недоступен этот величайший композитор, значит музыка вообще не для него.
Ландау был выдающейся личностью и очень веселым человеком. С ним никогда не было скучно. Он ушел от нас очень рано, в расцвете своего таланта. Это делает утрату еще более трагической.
